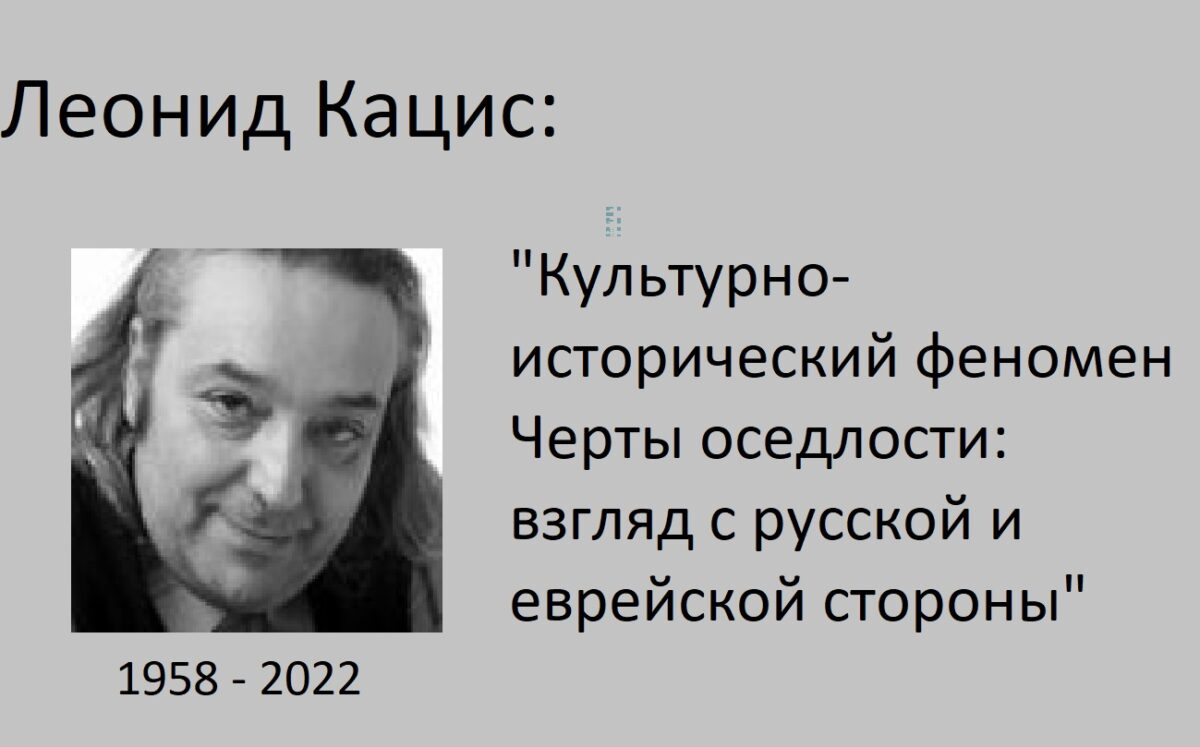Статья была написана Леонидом Кацисом в 2017 г. в период работы над сборником очерков, посвященных 100-летию отмены черты оседлости. Тогда не все статьи вошли в книгу при ее публикации. Сейчас этот текст нашего друга, Леонида Кациса, ушедшего из жизни в октябре 2022 г., публикуется впервые.
———————-
Черта еврейской оседлости как культурно-исторический феномен нашла свое отражение сразу во многих формах. Прежде всего, Чертой был сформирован и надолго утвердился в русской литературе сам типаж местечкового еврея – как правило, слабого, боязливого, но при этом очень набожного человека.
Достаточно вспомнить встретившегося Ф.М.Достоевскому в «мертвом доме» Исая Фомича Бумштейна — убийцу, но при этом ростовщика и ювелира – то есть, представителя весьма и весьма традиционных еврейских занятий. И не так уж важно, что Достоевский толком ничего в еврейских и иудейских делах не понимал. Принципиально другое: в сознании русского писателя, для которого именно Черта оседлости была предметом специальных размышлений, существовал некий особый образ еврея.
Не будем укорять автора за то, что в Субботу его Исай Фомич надевал тфилин (суббота – единственный день недели, когда религиозные евреи не делают этого). Важно другое: для Достоевского еврей – именно «Божий человек», поскольку тфилин, элемент молитвенного облачения – действительно символ неразрывной связи народа Израиля с Богом.
В сознании Достоевского, как, впрочем, и многих других русских писателей, существовали два, порой не связанных между собой образа: народа книги и народа Черты. Вот характерный пример: один из героев «Братьев Карамазовых», Федор, бывал в Одессе и встречался там, как он говорит, не только с «жидами», но и с «евреями». Возможно, так отразилась у Достоевского грань, которую проводили представители российской интеллигенции между восприятием грязных, нечестных, никчемных, на их взгляд, людишек Черты оседлости и их респектабельных соплеменников, добивавшихся успеха в искусстве, науках и предпринимательстве.
Одесса Достоевского – вполне определенный художественный образ. У читателя невольно складывается ощущение, что именно там глава семьи Карамазовых и носитель всех ее отрицательных начал Федор Павлович подвергся отрицательному влиянию, прожив несколько лет в еврейской среде. Там он, по сюжету романа, научился «сколачивать и заколачивать деньгу» и даже, возможно, обрел сходную с евреями внешность – плотоядный рот и нос с горбинкой.
Но Одесса отнюдь не была городом, обычным для Черты. Будущая родина целой южнорусской литературной школы – Исаака Бабеля, Ильи Ильфа и Евгения Петрова, Эдуарда Багрицкого, Валентина Катаева и других, формально она, конечно, входила в Черту оседлости как часть Херсонской губернии. Однако специфика, состоявшая в том, что город был одним из главных портов не только Новороссии, но и всей империи, обусловила принятие массы специальных законов и постановлений, которые фактически выводили Одессу из формальных рамок Черты. Поэтому и взгляд на него со стороны пишущего еврейства был, мягко говоря, неоднозначен – достаточно вспомнить, например, сочинение родоначальника русско-еврейской литературы Осипа Рабиновича с характерным названием «История о том, как реб Хаим-Шулим Фейгис путешествовал из Кишинева в Одессу и что с ним случилось» (Одесса, 1865).
Острый сюжет повествует о том, как бедный ремесленник из Кишинева, не имеющий шанса вырваться из нужды, но мечтающий об этом, выигрывает в лотерею огромную сумму. Путешествие в Одессу за причитающимися деньгами таит в себе много приключений и открытий. Перед бедным часовщиком, мало что видевшим в своей жизни, открывается новый мир, яркий и захватывающий – нетрудно догадаться, что к столкновению с ним рэб Хаим-Шулим оказывается не готов. Пытаясь, однако, доказать себе и окружающим, что и он принадлежит к этому миру, носитель местечкового сознания не справляется с соблазнами и проигрывает весь лотерейный выигрыш в карты. И начинается его обратный путь – из одесской Геенны в уютный мир кишиневского местечкового быта, столь привычный нашему герою.
Рэб Хаим-Шулим заявляется домой с лицом, плотно закрытым платком. Рассказ о том, что в поезде бандиты попытались отнять у него огромные деньги, и что в завязавшейся борьбе он лишился носа, но денег не отдал, потрясает жену Хаим-Шулима. Она плачет, говоря, что здоровье мужа ей дороже любых денег и что не надо было ради них жертвовать собой. И тогда несостоявшийся богач снимает с лица платок. Всё встает на свои места: Хаим-Шулим возвращается в привычный мир, вырваться из которого, оказывается, не так просто. Куда сложнее, чем просто пересечь границу какой-то Черты.
Рассказать об этом мире с такой добротой и, вместе с тем, с иронией, мог лишь писатель, родившийся внутри культуры Черты и полностью ей принадлежавший.
Но вернемся к Достоевскому. Размышления великого русского писателя столь глубоко в мир еврейской культуры не погружались. Его интересовали совсем другие проблемы. В «Дневнике писателя» за 1877 год Достоевский, обсуждая вопрос предоставления евреям равноправия, напрямую связывал его с главными русскими проблемами, касавшимися недавней отмены крепостного права. Как быть, размышлял Достоевский, если еврей, которому будет дарована свобода, просто скупит или ким-либо иным экономическим образом захватит всю русскую крестьянскую землю? Ведь после отмены Юрьева дня, когда крепостной мог хотя бы сменить помещика, русские крестьяне не стали свободны экономически в той же степени, что и евреи, которые могли сколько угодно перемещаться и вести дела на громадной территории Черты.
Конечно, наряду с подобными – вполне конкретными – размышлениями о необходимости ограничивать свободу евреев, у Достоевского можно найти и более серьезный, взвешенный взгляд на религиозную философию еврейства. И все же, бесправные жители Черты выглядели для него частью некоего мистического всеобщего еврейства, якобы противостоявшего всему, что было столь дорого писателю. Частью народа, который лучше все-таки держать взаперти.
В литературе встречаются разные мнения по поводу того, был ли Достоевский в прямом смысле слова антисемитом, и если да, то в какой степени? Достаточно определенный ответ на этот вопрос дает сам писатель, причем как в художественных произведениях, так и в дневниках, письмах.
Мы же обратимся к эпизоду из все тех же «Братьев Карамазовых».
«… — Алеша, правда ли, что жиды на Пасху детей крадут и режут?
— Не знаю.
— Вот у меня одна книга, я читала про какой-то где-то суд, и что жид четырехлетнему мальчику сначала все пальчики обрезал на обеих ручках, а потом распял на стене, прибил гвоздями и распял, а потом на суде сказал, что мальчик умер скоро, чрез четыре часа. Эка скоро! Говорит: стонал, все стонал, а тот стоял и на него любовался. Это хорошо! …»
Один из участников этого диалога, Алеша Карамазов, отличается в романе тем, что именно ему стремятся раскрыть душу, доверить сокровенное остальные персонажи. И когда, в ответ на жуткие подробности и прямой вопрос девочки-подростка, Достоевский устами Алеши говорит «не знаю» – сомнений в позиции Федора Михайловича, большого мастера психологического анализа и описания подспудных душевных движений, практически не остается.
Портрет еврея Черты, каким он виделся с русской стороны, мы находим и в «Степи» А.П.Чехова. Это Моисей Моисеич, хозяин постоялого двора в некоей губернии N, куда приезжают русские купец и священник. Здесь вам и странные одежды, и неприятный писателю еврейский говор, и пресмыкательство перед приезжими, и многое, многое другое. Но в то же время мы не раз встречаем в произведениях Чехова (рассказы «Тина», «Перекати-поле») образы евреев, прошедших крещение, порвавших со своей традицией, мятущихся, не нашедших душевного покоя в новом окружении. И, как большой художник, Чехов в своих произведениях, скорее, ставит вопрос, нежели дает ответ на него.
Еврейская сторона, конечно же, тоже не оставалась безучастной к этим поискам идентичности. Постоянно шла полемика о психологии еврея Черты – в частности, о том, как она корежит душу всего народа. В еврейской литературе само слово «Черта» стало знаковым, символичным, слово бы заключавшим в себе самую суть еврейской судьбы. Недаром первым названием «Мальчика Мотла» Шолом-Алейхема было «Дети черты». Пояснений к этому названию не требовалось.
Однако не только трагизм, юмор или ирония, о чем говорилось выше, характеризовали описание Черты оседлости еврейскими авторами. Было и другое отношение к этой теме, особо рельефно проявившееся после Кишиневского погрома, и с этого момента определявшееся не менее знаковым словом «Чужбина».
В этом течении видное место занимают тексты писателя, поэта и публициста Владимира Жаботинского. Как одного из основателей сионизма, его не слишком привечали в еврейской среде рубежа ХХ века – многие тогда искали выход из создавшейся ситуации в крещении, позволявшем вырваться за пределы черты, пусть и отказавшись от еврейства. С другой стороны, в то время все ярче проявляла себя новая, альтернативная возможность строить жизнь, не слишком углубляясь в проблемы сохранения национальной идентичности. Это был путь вовлечения в политическую жизнь и участия в революционных партиях, которого евреи ранее сторонились. Такой выбор тоже находил свое отражение в произведениях еврейских авторов.
Однако, образ неустроенности, чужбины пронизывал литературу все больше. Причем, примеры мы найдем не только у еврейских, но и у русских писателей. Это и уже упомянутый нами «Мальчик Мотл» Шолом-Алейхема, и замечательный рассказ В.Г.Короленко «Без языка», затронувший проблему еврейской эмиграции, когда один из героев, украинский крестьянин, видя, как евреи молятся в Америке, с тоской вспоминает: в его-то местечке все было по-настоящему. А здесь, по другую сторону океана – не то…
Наоборот, упомянутый выше идеолог эмиграции Владимир Жаботинский в своих произведениях ничуть не умилялся миру штетлов, видя в Черте в первую очередь мир скученной и нищей еврейской жизни. Эта жизнь породила многие черты еврейского характера и поведения, которые чуть ли не до наших дней определяют образ еврея в сознании окружающих народов. Жаботинский не раз говорил о рабской психологии еврейской интеллигенции Черты оседлости, о том, что евреи Черты не хотят участвовать в еврейской жизни и еврейские журналы читают куда меньше русской литературы и печати.
Не менее рельефно, чем в книжных и публицистических текстах, типичные образы обитателей Черты оседлости отражались в театре. Вот, например, что писал живший в столицах поэт Осип Мандельштам в очерке о Соломоне Михоэлсе – классическом исполнителе роли Тевье Молочника. «По деревянным мосткам невзрачного белорусского местечка — большой деревни с кирпичным заводом, пивной, палисадниками и журавлями — пробиралась долгополая странная фигура, сделанная совсем из другого теста, чем весь этот ландшафт. Я смотрел в окно вагона, как этот единственный пешеход черным жуком пробирался между домишками через хлюпающую грязь, с растопыренными руками, и золотисто-рыжим отливали черные полы его сюртука. В движениях его была такая отрешенность от всей обстановки и в то же время такое знание пути, словно он должен пробежать «от» и «до», как заводная кукла. Эка, подумаешь, невидаль: долгополый еврей на деревенской улице. Однако я крепко запомнил фигуру бегущего реббе потому, что без него весь этот скромный ландшафт лишался оправдания».
Сам Мандельштам в своих произведениях давал портрет и другого слоя жителей Черты – тех, кто, в определенном смысле, вышел за ее пределы. В очерке «Киев», например, он описывал быт евреев Подола, сильно отличавшийся от мира украинских местечек. Здесь была своя манера одеваться, носить шляпки, говорить. В таких местах, в соединении русской и еврейской культур, рождалось новое искусство, находившее воплощение в русском авангарде и других направлениях.
Еще один взгляд на облик евреев эпохи Черты оставил нам в своих письмах Борис Пастернак, буквально фиксировавший впечатления от увиденного сквозь вагонное окно: «Чудный день в Смоленске, древний кремль, кобзари и еврейский кларнетист обходят наши вагоны, о них, конечно, ничего не знают Express’ы. А тут – фольклор, и я научился по запаху вагона распознавать губернию, по которой проезжаю. Пассажиры меняются ежечасно. Визг, детские слюни и польские евреи и еврейские поляки. (…) Знаете, на что у меня уходят деньги? На Азров (евреев. – Л.К.). Они выстаиваются вдоль станций с курами и мацными булками в руках, с плачевным жаргоном на устах и с неисчерпаемой бесконечной скорбью в очах».
Обычные бытовые сцены, рутинная провинциальная жизнь, повседневные заботы людей, которые по сути и составляют их жизнь, если не случаются экстраординарные события.
Заметим: это написано в апреле 1912 года. То есть, в разгар дела Бейлиса, киевского приказчика, жителя Черты, обвиненного в ритуальном убийстве. Как уже было отмечено выше, шумная газетная кампания, судебное расследование и яростное противоборство защиты и обвинения буквально потрясли Россию. Нашли эти события отражение и на страницах книг еврейских писателей. В частности, им был посвящен роман Шолом-Алейхема «Кровавая шутка», печатавшийся в газете на идише. В основу был положен занимательный сюжет – одновременно отчасти фантастический, но отражавший, в то же время, суровую реальность жизни еврейского народа эпохи Черты.
Еврей Гершка Рабинович жалуется своему русскому другу, сыну дворянина Гришке Попову, на несправедливость: он обладает способностями и желанием получить высшее образование, вести достойную жизнь. Но даже при наличии аттестата с одними пятёрками и медали за успехи в учебе, Гершка не может быть принят в университет из-за процентной нормы. Его русский товарищ не верит, что евреи находятся в столь уж несчастном положении, и предлагает приятелю на год поменяться местами. В результате, дворянский на своей шкуре испытывает все «прелести» положения еврея, проходит через запреты и унижения, не имея права даже просто ходить по некоторым улицам. Наконец, случаются события, весьма напоминающие дело Бейлиса: гибель подростка – сына местного сбытчика краденного – допросы, обыски и арест Гришки, который не может признаться, что он не еврей, из опасения навредить другим людям. Присутствие в названии романа слова «шутка» предполагает, конечно же, что развязка будет благополучной. Казалось бы, так и происходит: обман раскрывается, все становится на свои места. Но что значит в данном случае «на свои места»? Только то, что жизнь Гришки возвращается в привычное русло, а бедствия, обрушившиеся теперь на Гершку, вынуждают его бежать из страны.
Сравнивая две линии событий – вымышленных, в романе, и подлинных, в Киеве – зададим себе вопрос, который косвенно затрагивался и во время реального процесса по делу Бейлиса: а где, собственно говоря, проходила пресловутая Черта оседлости?
В Киеве, например, одна сторона улицы или бульвара могла быть разрешена для проживания евреев, а противоположная – нет. И случаи такие были далеко не единичными случай. На процессе по делу Бейлиса, выясняя, почему один из свидетелей прописан по одному адресу, а фактически живет по другому (что часто случалось из-за запрета евреям жить там, где они хотят даже в пределах одного города), прокурор назвал ситуацию комедией. В ответ на что один из защитников попросил судью разъяснить представителю обвинения, что не следует называть комедией трагедию.
Рассматривая в этом очерке то, как проблемы жизни евреев эпохи Черты отражались на страницах книг еврейских и русских писателей, обратим внимание на еще один эпизод из романа Шалом-Алейхема: «Не нужно большего пессимиста, чем Абрам-Лейба, который даже про Толстого как-то раз выразился в письме к брату, что великий Лев Толстой тоже не больше, как грешный человек». И далее: «Недурную речь произнес Абрам-Лейба, показал себя. Недаром же выучил наизусть всего Кирпичникова и Галахова, прочел Пушкина, Тургенева и всего Толстого, от доски до доски! Абрам-Лейба так волновался, что в конце своей речи выпалил такую тираду: “Что нам делать? Ждать, пока кто-нибудь сжалится и замолвит за нас словечко? Благословенны руки, сами себе помогающие! Много нам помогали ваши великие люди? Разве заступился за нас Лев Толстой? Разве попробовал хоть бы одним словом выступить в защиту евреев?!”».
И Шолом-Алейхем знал, о чем говорил. Известно, что в 90-е годы XIX века к Толстому неоднократно обращались с просьбой выступить в защиту Дрейфуса во время процесса, потрясшего Францию и всю Европу. Ответ писателя-гуманиста был обескураживающим: «Я не знаю Дрейфуса, но я знаю многих Дрейфусов, и все они были виновны … Лично я уверен в виновности Дрейфуса». И даже много лет спустя, уже после того, как обвинение было признано ложным, Толстой, пользуясь военной терминологией, отступал, сохраняя оборонительные позиции: «Да, да, он невиновен. Это доказано … Кто-нибудь когда-нибудь сможет объяснить мне, почему весь мир проникся интересом к вопросу — изменил или не изменил своей родине еврей-офицер? Проблема эта имеет ничтожное значение для Франции, а для всего остального мира она совсем лишена интереса…». Более того, писатель обрушивался с критикой на тех представителей русской интеллигенции, которые пытались занять в этом споре сторону Дрейфуса. «Нам, русским, странно заступаться за Дрейфуса, – писал он, – человека ни в чем не замечательного, когда у нас столько исключительно хороших людей было повешено, сослано, заключено на целую жизнь в одиночные тюрьмы».
Приведенные здесь цитаты вовсе не ставят своей целью развенчать чей бы то ни было образ. Они лишь позволяют взглянуть более объемно на проблему отношения российских писателей к еврейству через призму одного из наиболее выдающихся их представителей – человека, одно время даже бравшего уроки иврита у московского раввина Минора, чтобы ближе познакомиться с еврейскими священными книгами.
Сто с небольшим лет назад, после смерти Толстого, Ленин в своей статье назвал писателя «зеркалом русской революции» (несмотря на то, что Лев Николаевич никогда о революции не писал). Ленин имел в виду, что Толстой, как большой художник, адекватно отразил всю противоречивость внутренней жизни Российской империи в эпоху надвигавшихся потрясений. В этом смысле позицию Толстого можно также считать и зеркалом русско-еврейских отношений в начале ХХ века. Эти отношения были сложны и противоречивы настолько, что даже великий гуманист, писатель и педагог, гений мировой литературы, не решился возвысить свой голос в защиту еврейского народа от несправедливых обвинений.
Вряд ли Толстой чем-то рисковал при этом. Вряд ли ему пришлось бы бежать из страны, как это сделал под давлением ненавистников Дрейфуса Эмиль Золя после написанного им правительству Франции письма, которое писатель озаглавил «Я обвиняю». Но, так или иначе, до прямого, недвусмысленного обвинения гонителей еврейского народа русская литература, несмотря на мужественную позицию некоторых ее представителей, все же подняться не смогла. Задачу убедить народ России в низости и недопустимости гнета по национальному признаку она не ставила, и решены эти проблемы вскоре были совершенно другим путем – путем революционного обрушения всех мыслимых границ – в том числе и границ Черты оседлости.